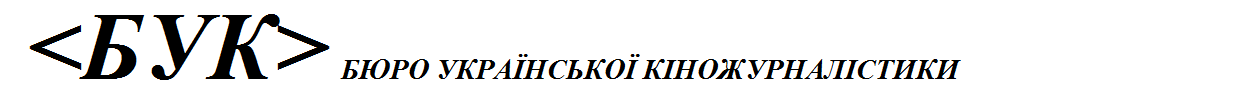Заступник голови Держкіно СРСР Борис Павленок про економіку радянського кіно.
75 лет назад, в марте 1928 года, Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров, Сергей Юткевич, Всеволод Пудовкин и другие кинорежиссеры направили в адрес I Всесоюзного совещания по вопросам кино письмо с просьбой организовать при Агитпропе ЦК ВКП(б) орган для идеологического руководства кино. Как партия и правительство управляли кинопроцессом в последние годы советской власти, обозревателю “Власти” Евгению Жирнову рассказал бывший зампред Госкино СССР Борис Павленок.
— Борис Владимирович, вы один из немногих людей, о которых почти 20 лет после их отставки пишут так много и так плохо. Вы запрещали актерам играть, а режиссерам снимать, вы уродовали и отправляли на полку картины. Вы действительно были главным партийным цензором в киноискусстве?
— Я и сам удивляюсь, какую оставил о себе долгую память. А на тех, кто рассказывает обо мне разные небылицы, я не обижаюсь. В год я вел производство 150 картин, а это минимум столько же конфликтов. Практически я выполнял продюсерскую работу — читал все сценарии, которые запускались в производство и которые отвергались, принимал решения. А продюсер хорошим для всех не бывает. Кто-то, как ни старайся, обязательно остается обиженным.
— Вы ведь не кинематографист, что называется, с младых ногтей?
— Я никогда не собирался работать в кино. Работал в Минске редактором газеты “Советская Беларусь”. Однажды секретарь республиканского ЦК Василий Филимонович Шауро звонит мне: “Вас утвердили председателем Белгоскино”. Проработал в Белгоскино семь лет. А в 1970 году меня вызвали в Москву к Шауро — он к тому времени стал заведующим отделом культуры ЦК КПСС — и назначили начальником Главного управления художественной кинематографии и членом коллегии Госкино. Я достаточно быстро почувствовал, что такое столичный мир кино. Режиссер Эмиль Лотяну при съемках картины “Лаутары” перерасходовал 150 тыс. рублей. Я дал указание прокату оплатить фильм не по сметной, а по фактической стоимости. Так на меня тут же сотрудник Госкино написал заявление с обвинениями в антипартийной деятельности. Хорошо, председатель Госкино Алексей Романов был добрый человек, при мне порвал эту бумагу. А в 1972 году Романова от нас забрали и председателем Госкино утвердили Филиппа Ермаша. Он назначил меня заместителем — производство фильмов, ответственность за качество художественных фильмов, финансы и учет. Так что я стал отвечать за весь цикл производства и проката фильмов.
— И что представлял собой этот цикл?
— Предварительная работа проходила на студиях. Нам присылали сценарии с заключениями студии, предложения о составе съемочной группы и смете картины. Я читал абсолютно все сценарии. Можно было, конечно, перепоручить это кому-нибудь другому, но я знал, что бы впоследствии ни случилось, отвечать придется мне, и потому всегда вел картину от начала и до конца. Прочитав, беседовал с режиссерами. Я искал в сценарии профессионализм, выстроенность, сюжетную понятность. Спрашиваешь иногда у режиссера: “А про что у тебя кино? В двух фразах”. Он начинает долго-долго рассказывать. Тогда понятно, что он еще не знает, о чем будет фильм. “Тогда еще надо подумать”,— говорю. Некоторые смеялись и уходили думать, другие обижались.
— А после изучения сценариев?
— Нашей задачей было составить тематический план. Почему-то все его проклинали. Нас упрекали в том, что мы якобы совершаем насилие над волей художников. А мы хотели, чтобы кинематограф был всеохватным. Чтобы были не только лирические фильмы, но и исторические. Чтобы были фильмы военной тематики. Чтобы это был многожанровый кинематограф. Особое внимание уделяли комедиям, семейным фильмам. Это то, что зритель всегда принимал на ура.
— Вы могли и не включить картину в годовой план?
— Бывало, что в текущем году фильм в план не включали из-за того, что был перебор с картинами такого типа. Хотя всякое случалось. Помню, студия имени Довженко и “Ленфильм” прислали два абсолютно одинаковых сценария о шахтерах. Я стоял насмерть, доказывая, что нельзя запускать в производство оба фильма. Поехал на “Ленфильм”, объяснял, что такую же “серятину” мы уже снимаем — украинцы настояли. Но они упорствовали. Вернулся, посоветовались и махнули рукой. Но картину смотреть никто не стал. А какие-то картины мы просто волевым порядком включали в план студий. “Пиратов ХХ века” я силой заставил снимать, потому что нужно было зрительское кино, дающее кассовые сборы.
— Главной целью было извлечение прибыли?
— Пополнение бюджета. Кинематограф был абсолютно рыночной и прибыльной структурой. Получив темплан, я шел в Госплан, а потом в Минфин и выбивал лимит на производство фильмов. Нас всегда выручал министр финансов Василий Федорович Гарбузов. Он был большим любителем кино. Когда он смотрел комедии, с ним в одном ряду сидеть было нельзя: все кресла тряслись. И если возникали сложности, он безоговорочно решал вопрос. Обычно мы получали до 100 млн рублей в год. Это было разрешение банку дать нам ссуду. Мы должны были их освоить и погасить банковский кредит. Студии продавали фильмы прокату (другой структуре Госкино), прокат продавал кинотеатрам, и деньги, полученные от сборов за билеты, мы возвращали в банк.
— А сколько возвращалось?
— Касса нам давала примерно 1 млрд рублей.
— Действительно?
— Рентабельность советского кинематографа составляла 900% в год. Мы когда-то ставили с американцами “Синюю птицу”, и у меня для журнала Variety брали интервью. Я им говорю, что кинотеатры в СССР посещают 4 млрд зрителей в год. Они переспросили. Я снова: 4 млрд. Они попросили написать на бумаге, пересчитали нули и все-таки написали в журнале 1 млрд. Средняя цена билета была 22,5 копейки, вот и получались сборы 1 млрд рублей со всей киносети. Этого хватало, чтобы вернуть кредит, вести производство, оплачивать тиражи фильмов. Примерно 550-570 тыс. забирали у нас в виде налогов. Оставшегося хватало, чтобы делать такие картины, как “Война и мир” или эпопею “Освобождение”, чтобы у нас с 1976 года ежегодно было 30 режиссерских дебютов. Мы создали на “Мосфильме” объединение “Дебют”, условием работы в котором было: ставьте что хотите, снимайте как хотите, выход на экран зависит от проката — купит или не купит. Но мы платили всему творческому составу повышенные ставки, чтобы они не были ущемлены по сравнению с теми, кто работает в “большом кино”.
— Блестящие результаты повторялись из года в год?
— В среднем, чтобы фильм оправдывал себя, нужно было, чтобы его посмотрело 17 млн зрителей. Но далеко не все эту цифру вытягивали. Василий Шукшин снимал один в один, как снайпер: ни одного лишнего съемочного дня, ни одного попусту потраченного метра пленки. У него “Калина красная” стоила — сколько лет прошло, но я хорошо помню — 289 тыс. рублей, и посмотрело ее 140 млн человек. В то время как какая-нибудь “Севастопольская эпопея”, которую посмотрело — я помню тоже — 1,5 млн человек, стоила 1,5 млн рублей.
И чтобы поправить дела, мы, как у нас говорилось, “приглашали Брижит Бардо”. Это нормальный продюсерский ход. Неважно, где я беру деньги, главное — рассчитаться с долгами и получить кредит на следующий год. Иногда звонил Ермашу управляющий Госбанком и говорил: “Слушай, купи какую-нибудь ‘Есению’, у меня касса пустая”. Покупали индийские мелодрамы, бросали в кинотеатры большой тираж и наполняли бюджет.
— Но не все режиссеры могут снимать зрительское кино.
— Давным-давно известно, что в искусстве есть две тенденции: одна — искусство для зрителя, а другая — искусство для развития искусства. И фильмы, которые обогащали кинематограф, как правило, зрительским интересом не пользовались. Но на них мы тоже находили деньги. Такой случай был у нас с Андреем Тарковским. Он полностью снял “Сталкера” — 7,5 тыс. м полезного материала, а потом весь материал забраковал — все в корзину: операторский брак. Но снимал Георгий Рерберг, который был у Тарковского оператором на “Зеркале”. Он брака не мог допустить, Рерберг и брак — понятия несовместимые. Тем более что Тарковский у него все до последнего кадра принял. Собрались, стали думать, что делать, и решили дать Андрею снять фильм заново. Опять выделили деньги, достали пленку “Кодак”, которая была колоссальным дефицитом. Саша Княжинский пришел оператором, и фильм сняли по второму кругу. Но зритель принимал “Сталкера” трудно. Нам говорили, что мы недостаточно популяризируем фильмы Тарковского, мало их показываем. Но мы печатали по заявкам кинотеатров столько копий, сколько просили.
— А перед сдачей фильма в прокат проходила его приемка в Госкино?
— Конечно. Сначала режиссер обсуждал фильм с нашим редактором, и они решали, не нужно ли чего улучшить. Все изменения вносились только при условии полного и добровольного согласия. Потом картину смотрели мы с мудрецами из аппарата Госкино, и тоже обсуждали. И когда ребята начинали сильно умствовать, я говорил: “Давайте оставим что-нибудь кинокритикам, давайте говорить только о самом необходимом. Что необходимо совершенно точно поправить в картине? Что мешает ее смотреть?”
Помню, привезли сдавать с Казахской киностудии картину “Транссибирский экспресс”. В числе ее авторов был Никита Михалков. Смотрим, а кино не складывается. Сели у меня в кабинете режиссер Даль Орлов, кто-то из редакторов. И начали придумывать — материал-то снят хороший. Выстроили поэпизодник. Режиссер поехал на студию и сложил хорошую картину.
— Насколько я знаю, сдача была самой конфликтной частью процесса кинопроизводства?
— Не всегда. Помню случай, когда очень интересный режиссер со студии Довженко Леня Осыка сдавал картину. Вместо одной серии сделал две. А я всегда на сдаче фильма сидел с режиссером за пультом. И Леня во время сдачи заснул на собственном фильме, настолько это было “интересное” кино. Так что в споры о качестве фильма он после этого не вступал.
А в общем-то ссор хватало. Меня не так давно удивил Алексей Герман: мол, я говорил, что его картина увидит свет только через мой труп. Во-первых, я никогда так дешево не ценил свою жизнь, а во-вторых, это вообще не в моей манере. Но с ним я действительно однажды крупно поссорился. Я посмотрел “Мой друг Иван Лапшин” и понял, что это прекрасная картина, которая ляжет на полку. Из Ленинградского обкома пошел “стук” на Старую площадь, что снимается идеологически вредное кино. Я предложил Герману простой выход: “Знаете, Алеша, снимите еще одну сцену. Пусть ваш герой едет в троллейбусе, в такси или в трамвае в новом городе, где стоят новые дома, и вспоминает. Превратите все в личные воспоминания. А сейчас все, что происходит,— историческая данность, общая закономерность”. Он согласился, уехал, а когда вернулся, оказалось, что ничего не сделал. Я от дальнейших обсуждений отказался. “Как хотите,— говорю,— так и поступайте”. И ушел с обсуждения. Герман потом эту сцену все-таки добавил. Звонил и благодарил, что я спас картину.
— А обойти вас пытались?
— Во время обсуждения картины “Свой среди чужих, чужой среди своих” произошел конфликт с Никитой Михалковым. Я сделал два-три очень мелких замечания. Там “затяжка” пошла. Хуже всего в фильме, когда начинается “русское кино” — нет никакого действия. Никита взвился, закричал. Я говорю: “Не хотите слушать, выпускайте так. Вам же хуже будет”. Назавтра мне звонят и говорят, что Михалков-папа прибежал на Старую площадь и во всех кабинетах, куда заходил, поносил меня. Прошло несколько дней, и Сергей Михалков пришел ко мне. Заикаясь, говорит мне: “Борис, ты извини, ты прав был”. Я говорю: “Так ты пройди по всем кабинетам, где ты меня обгадил, и скажи, что был не прав”.
— А что делали те, у кого не было знаменитого папы?
— Некоторые сами были знаменитостями, и спорить с ними не полагалось. С Бондарем, как называли за глаза Бондарчука, еще можно было разговаривать. Принес он как-то сценарий фильма “Красные колокола”. Мне позвонил Ермаш и попросил прочесть. Потом встретились втроем, с Бондарчуком. Я говорю: “Работа проделана грандиозная. Так точно выверена вся хроника революции. Прекрасный материал для сценария. Но его надо выстроить. Ни одной сделанной сцены, ни одного прописанного образа, ни одной разыгранной ситуации по этому сценарию угадать нельзя”. Сергей взвился: “А кто вы такой?!” “Я Павленок,— говорю.— Спрашивают мое мнение, я его и говорю. Хотите снимать по этому сценарию, снимайте. А мы посмотрим, что получится”. И ведь ничего абсолютно не получилось.
— А с другими режиссерами удавалось поладить?
— Почти у каждого крупного режиссера был какой-то высокий покровитель. Раздается звонок от жены члена Политбюро: “Борис Владимирович, вот Александров снял картину ‘Скворец и лира’. Говорят, вы не выпускаете ее на экран. Пришлите нам ее на дачу посмотреть”. Я отвечаю: “Я очень уважаю Александрова, он так много сделал для нашего кинематографа. Сейчас у него картина не получилась. Чтобы сберечь его авторитет и авторитет Любы Орловой, мы картину на экран не выпустим”. Аргументы не подействовали. “Я скажу мужу, чтобы он вам позвонил”. Ну, как говорится, против лома нет приема, послали. Назавтра она мне опять звонит: “Как же вы можете такие картины снимать?!”
Но Гриша пошел наверх, и оттуда пришла команда: запустить фильм в производство. Мы доказывали, что сценарий плохой, что Орлова уже не в форме и ей нельзя играть 30-летнюю красотку. Лицо еще можно снять через сетку, но руки крупным планом уже нельзя снимать, ноги нельзя снимать. Так и снимали — руки и ноги были других актрис. Но Александров уперся, и все. У него тогда уже начинался маразм. Стали думать, как ему объяснить, что фильм не выйдет, чтобы не убить его этим известием, и придумали. Позвали его и говорим: “Знаете, мы не можем выпустить вашу картину по международным обстоятельствам. Между нашей разведкой и американской после оккупации Германии был договор, что ни они, ни мы там своих шпионов держать не будем. А вы сняли картину о том, как в Германии работают разведки. Будет крупный международный скандал. Мы вас хотим уберечь от этого”. И Александров, довольный до невозможности, что он стал фигурой такого масштаба, поехал домой.
— То есть последней инстанцией в приемке фильмов были ЦК и семьи членов Политбюро?
— Все категорические решения по картинам исходили со Старой площади. Например, по фильму Элема Климова “Агония”. Прекрасная картина. Мы ее посмотрели, сели и задумались, какие будут претензии. И тут я вспомнил, что у Ленина есть цитата по поводу Распутина. Говорю Элему: “Давай поставь ее эпиграфом к фильму”. Посмотрели картину. Начали ее вызывать на дачи. Причем по два, по три раза смотрела одна и та же семья, знакомых собирали. Все довольны, все в порядке. И тут на заседании Политбюро Косыгин говорит, что картина негодная и выпускать на экран ее нельзя. Ну, нам спорить с главой правительства нельзя. Начали мы выкручиваться. Ермаш трижды — такого не бывало в советской истории — входил по этому вопросу в секретариат ЦК с записками. Я сидел сочинял основу, Ермаш правил и посылали. И “Агонию” сначала разрешили выпустить в прокат за границей. И только потом разрешили выпустить в Союзе, хотя ничего антисоветского в картине не было. Или картина “Тема” Глеба Панфилова. Тут безо всяких объяснений сказали: не выпускать фильм, и все.
— Но виноватым во всем считали вас?
— Естественно, ведь акт приемки картины подписывал я. Или не подписывал, как было приказано свыше. Сколько могли, сопротивлялись. Но когда нас не слушали и отдавали приказ, приходилось исполнять. Кинематографисты не понимали, что на Старой площади их принимали и давали какие-то обещания, а нам тут же давали прямо противоположные указания. При этом наши кураторы в ЦК никогда глубоко не вникали в кинопроцесс. Вплоть до того, что замзавотдела культуры спросил меня как-то: “А почему вы разные ставки платите актерам?” Он не знал, что у нас была тарификация актеров и каждый имел свою тарифную категорию. Я, кстати, был председателем тарификационной комиссии и на актеров денег не жалел. Зритель видит и помнит только актеров. А платили им совершенные гроши. На комиссии, когда решался вопрос о переводе кого-то в следующую тарифную категорию, вдруг поднимался Кеша Смоктуновский и говорил: “Что, он будет получать такую же тарифную ставку, как и я? Нет!” Я удивлялся, глядя, как актеры и режиссеры (а кроме меня, в комиссии не было чиновников) сами резали ставки своим коллегам.
— Вам не хотелось уйти?
— К концу работы, в начале 1980-х, мне стало неинтересно работать. Принесут мне сценарий, я его прочитаю и знаю: будет разговор с режиссером, и обязательно возникнут трения, и с чем он согласится, а с чем нет. Знаю, что он оставит в картине, а что выкинет перед сдачей фильма. Знаю, какие замечания сделает высокое начальство. Целый день в напряжении из-за постоянных разговоров. Сверху разговоры, снизу…
Когда мне исполнилось 58 лет, я сказал Ермашу: “Филипп Тимофеевич, как только мне исполнится 60, я положу тебе заявление на стол, потому что я уже не в силах работать”. Но он не отпускал меня, пока не ушел сам в 1986 году.
— Вы ушли без сожаления?
— Мне плакать хотелось, когда начали разваливать хорошо налаженную структуру, полностью готовую к рынку. То, что толку от перестройки в кино не будет никакого, стало ясно на V съезде кинематографистов. Когда выступил Эльдар Шенгелая и сказал, что вот теперь наконец мы получили свободу и сделаем грузинский кинематограф самоокупаемым. Грузинские фильмы принципиально не могут быть самоокупаемыми. Я очень люблю грузинское кино. Оно тонкое, умное, интеллигентное. Но на него никогда не придет столько же зрителей, сколько на “Калину красную”. Самый посредственный индийский фильм собирал больше, чем самый талантливый грузинский. Все дружно зааплодировали Эльдару, и я понял, что это начало конца. Конечно, прежний уровень посещаемости сохранить бы не удалось. Появились видеокассеты, видеодиски. Они подточили кинопрокат.
— А чем вы занимаетесь теперь?
— Я же продюсер (смеется). Организую встречи ветеранов кино со зрителями — и людям приятно, и нашим заслуженным актерам заработок. А еще пишу. Два моих исторических романа вышли в Англии. А недавно взялся за мемуары.
“Ошиблись, товарищ Сталин!”
Высшей точки партконтроль в кино достиг, когда должность первого замминистра кинематографии и замначальника Агитпропа ЦК занимал внебрачный сын Сталина Константин Кузаков. Вот что он вспоминал об этих временах.
Сталин занимался кинематографом сам. Я много думал тогда, почему он так интересовался кино. Сталин любил смотреть кинематограф. Я всегда чувствовал, что он интересуется не только нашим кино, но и кинематографом капиталистических стран. Он был от живой жизни оторван. Жизнь входила в его кабинет только через кинозал. Хронику он много смотрел. Он понял после войны, что сидеть у себя в кабинете, принимать своих заместителей и помощников недостаточно. Потому что быт непонятен, мир разделяется. Нужно как-то знакомиться с жизнью в капиталистических странах, от которой мы должны уходить все больше и больше. Кино стало его окном в мир. С ним он проводил вечера.
Поэтому он кино стал воспринимать как жизнь. Оно срасталось с жизнью. И он понимал кино по-своему. Довженко однажды был приглашен к Сталину одну из картин показывать. А там сцена. Женщина бежит к директору стройки. Она вбегает в одну комнату — директора нет, в другую — директора нет. Открывает все двери — никого нет. Сталин и говорит: “Сколько же у нас бюрократизма!”
Мне рассказывали, что как-то, посмотрев фильм о шахтерах, Сталин у себя в кабинете особенно сильно ругался из-за того, что показываем нищую, грязную страну, а мы великая держава! В кино же получается, что мы отсталые, архаичные. Страшно ругался.
После этого на заседании Оргбюро ЦК громили киношников. Сталин пришел на это заседание. Обычно он очень редко приходил на заседания секретариата или Оргбюро. Если он приходил, приходили все, и это получалось заседание Политбюро. Как заместитель начальника управления ЦК, я был обязан присутствовать на Оргбюро. Министр кинематографии Большаков всегда в критические минуты “болел”, и здесь было так же. Сталин вызвал к столу зама — Калатозова — и спросил: “А что нам скажет министерство?”
Калатозов сказал просто: “Ошиблись, товарищ Сталин!” И тут же твердым шагом прошел и сел на свое место. А Сталин говорит, обращаясь ко всем: “Видели? Вот такие люди денежки транжирят. Пропали денежки”. Потом Сталин спросил: “Почему выступает Калатозов — мы же его сняли?”
Журнал “Коммерсантъ Власть“, №9, 10 березня 2003 року