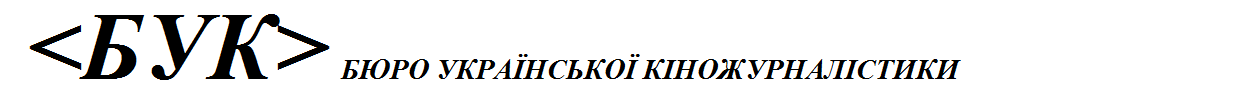Андрій Плахов, «Сеанс» про «нову хвилю» та «французьку хворобу» сінефілії.
Если в эпоху модерна французской болезнью называли сифилис, то после Второй мировой почетное место в национальном пантеоне недугов заняла синефилия. Накат «новой волны» легитимировал этот факт. Трудно сказать, что было важнее в ее идеологии — культ авторства (модернистский) или культ синефильства (тот, из которого в кино пришел постмодернизм). Впрочем, оба культа между собой тесно связаны.
Эстетика «волны» сформировалась под влиянием теории и наставнической деятельности Андре Базена, который с подозрением относился к экспрессионистским и монтажным эффектам, считая, что кино — искусство реалистическое. В то же время деятели «новой волны» были страстными фанами американского жанрового кино. Для этих «хомо синематикус», выкормышей Парижской синематеки, кино было способом, стилем и философией жизни, и отношения с последней выяснялись в неустанных диспутах о первом. Авторское начало образовывало вертикаль всей конструкции, синефилия — горизонталь.
Но ни одна волна не приходит одна. Согласно пророчеству Жиля Жакоба, опубликовавшего в 1964 году дерзкую статью «Новая волна или молодое кино?», синефилам первого поколения придет конец: их сектантская лавочка треснет под натиском следующего потопа. Ожидания Жакоба — одного из главных оппонентов «волны» — оправдались: нахлынувшая «новая новая волна» по части синефилии перещеголяла свою предшественницу. Связь времен не прервалась: синефилы-новобранцы охотно цитировали кино 60-х и почтительно оглядывались на его мифологию. Те же, кто еще недавно с азартом попирал отеческие гроба, сами превратились в классиков. Например, Лео Каракс стилизовал под Годара даже свою личную жизнь.
Синефилию как болезнь можно диагностировать практически у любого французского режиссера — и чем он крупнее, тем серьезнее диагноз. Часто деятели кино сами страдали от этой болезни и инфицировали ею своих соратников и последователей.
Франсуа Трюффо отказался уничтожить материал, не вошедший в «Четыреста ударов» (Les quatre cents coups, 1959), еще не ведая, что будет делать продолжение. В дальнейших фильмах о Дуанеле режиссер использует эти старые кадры как флешбэки; появление Жан-Пьера Лео в никогда не виденных сценах производит магическое впечатление. Это отнюдь не нарциссическая синефилия; это не что иное, как этический реализм в базеновском смысле. Моральный кодекс «новой волны» требовал максимального сближения жизни и кинематографа, особых отношений режиссера с актером. Некоторые женились на своих музах (Годар — Анна Карина, Шаброль — Стефан Одран), но именно в нестандартном случае Трюффо и Лео особенно очевидна степень идентификации актера c персонажем. Жизнь в кино переживается не просто как жизнь, а как «больше, чем жизнь».
Стиль режиссера балансирует между холодным «протоколом страсти» и горячей «декларацией любви», становится способом рассказать о преследующем его героев (и его самого) одиночестве, о неразрешимых вопросах, о неизлечимых травмах. Один из главных вопросов ставится Трюффо в «Американской ночи» (La nuit américaine, 1973) устами того же Жан-Пьера Лео: правда ли, что кино серьезнее жизни?
«Американская ночь» оказалась ключевым фильмом поздней «новой волны» еще и потому, что обнаружила непреодолимые противоречия между Трюффо и Годаром. Между ними вспыхнула переписка: Годар упрекал Трюффо в том, что предавая правду в кино, тот предает жизнь. «Ты лжец!» — прямо завил Годар автору «Американской ночи» и напомнил, что как-то встретил Трюффо в ресторане с Жаклин Биссе (исполняющей в картине роль кинодивы). В жизни все выглядело так, будто у режиссера и актрисы роман, а в фильме, с возмущением пишет Годар, все спят с Жаклин, кроме самого режиссера Феррана — героя Трюффо. С точки зрения ортодоксального кодекса «новой волны» это было чудовищной неправдой и предательством.
Сегодня эта полемика кажется наивной и беспредметной. Годар — иконоборец и авангардист, Трюффо — классик и традиционалист, Годар — структуралист-интеллектуал, Трюффо — гуманист-интеллигент. Но оба прежде всего критики, которые снимают не триллер, а фильм о триллере («На последнем дыхании»; À bout de souffl é, 1960), не фарс, а фильм о фарсе («Такая красотка, как я»; Une Belle Fille Comme Moi, 1972). В этом уже были зачатки постмодернизма.
Те же, кто пришел после, все больше камуфлируют модернистские пережитки и все смелее воспроизводят мифологические архетипы своих предшественников. Например, Андре Тешине в «Месте преступления» (Le lieu du crime, 1986) простодушно воспроизводит финал «Жюля и Джима» (Jules et Jim, 1961), привлекая троицу вечных бродяг, не способных выяснить свои запутанные отношения без того, чтобы пустить автомобиль под откос.
Здесь уместно подумать о различиях французского и американского культа кино. Классический Голливуд не признавал Автора, а значит, не было и почвы для синефильской ностальгии. «Новый Голливуд», напротив, впитал опыт европейских «новых волн»: как говорил Клод Лелуш, «самое интересное в Спилберге — это Годар». Американцы охотно переняли у французов идею культового кино, но синефилами в полном смысле не стали: для этого они слишком душевно здоровы. Делая римейки знаменитых лент (своих и европейских), они видят в первоисточнике не миф, а просто удачный, пригодный для перелицовки сюжет.
Во Франции же синефильская хворь неистребима. Она не обязательно распространяется на великие фильмы; тот же Трюффо говорил: «Что такое суждение киномана? Достаточно еще раз пересмотреть разруганный когда-то фильм, увидеть актеров, которых уже нет в живых, чтобы вами овладело чуство нежности, ностальгии. Поверьте, настанет день, и высоколобые киногурманы полюбят де Фюнеса».
Синефилией серьезно болен Франсуа Озон: самое яркое свидетельство тому — «8 женщин» (8 femmes, 2001), где режиссер воспроизводит техниколор как стиль времени, собирает под одной крышей кинодив разных эпох и заставляет двух женщин Трюффо — Катрин Денев и Фанни Ардан — сыграть драку, переходящую в страстный поцелуй.
Последнюю стадию синефилической болезни можно диагностировать по стилизованному под фильм категории «Б» «Последнему сеансу» (Dernière séance, 2011) Лорана Ашара — хронике ночных прогулок серийного убийцы, коллекционирующего женские ушки, а в дневную смену — киномеханика разорившегося кинотеатра, который торчит от фильма Поля Веккиали «Женщины, женщины» (Femmes femmes, 1974). Синефилия — не что иное, как предельная форма преступного идеализма, — говорит Ашар и вешает украденные у жертв сережки на постеры Греты Гарбо и Бетт Дэвис. Иногда подсказки Ашара даже слишком настойчивы: 1963 — код на двери дома очередной жертвы Сильвана — памятен маньяку как год выхода на экран «Шербурских зонтиков» (Les parapluies de Cherbourg, 1963). На афишах кинотеатра — «Пленница» (La captive, 2000) Шанталь Акерман, «Карпатский гриб» (Le champignon des Carpathes, 1990) Жан-Клода Бьетта, «Женщины, женщины» Поля Веккиали и «Последние дни» Гаса Ван Сента; на входе в подвальное убежище маньяка мы читаем название фильма Жака Тати «Время развлечений» (Play Time, 1967). Не дом, а кинотеатр или эстетский колумбарий. Никому не удастся избегнуть кровавой участи: убийца крошит первых встречных под звуки «Французского канкана» (French Cancan, 1954) Ренуара. Герой Габена не хороший и не плохой, а «просто другой». Так и Сильван ничем не хуже. «Последний сеанс» — это автопародия с послевкусием трагедии, только самому Ашару это невдомек.
Тема фильма «Разрез» (Cut, 2011), снятого иранцем-эмигрантом Амиром Надери, — величие прошлого и ущербность настоящего. Молодой режиссер, заядлый киноман, молится на могилы своих идолов Одзу и Куросавы и скандирует романтические лозунги: «Кино — не шлюха! Кино должно снова стать искусством! Позор алчным продюсерам!» Расправа над этим мечтателем придумана со всей синефилической беспощадностью: горе-режиссер угодит в рабство к якудзе, который будет поколачивать его в воспитательных целях. Но вспоминая великие кинокартины прошлого и их великих жертв — «Дорогу» Феллини, «Искателей» Форда, «Пролетая над гнездом кукушки» Формана, — он легко забудет о досадных мелочах повседневности: даже самая горькая жизнь пролетит незаметно перед воображаемым экраном. Отработав долг и вырвавшись из плена мафиози, герой сразу влезает в новый — чтобы снять фильм, который, возможно, пополнит список икон. Французы, разумеется, занимают в этом списке достойное место: назовем хотя бы «Лолу Монтес» (Lola Montès, 1955) Макса Офюльса, которая входит в обязательную программу любого синефильского культа со времен «новой волны».
На фото: кадр із фільму «Останній сеанс», реж. Лоран Ашар, 2011
Андрій Плахов, «Сеанс», №49/50, 2013